Психотерапия:
Сексология:
Вопросы-ответы:
| Фетишисткое объектное отношение |
| Психотерапия - Психотические нарушения |
|
Фетишистское отношение к объекту было описано Э. и Ж. Кестемберг совместно с Симоной Декобер в работе по психической анорексии (Kestemberg, Kestemberg, Decobert, 1972) и далее разработано Э. Кестемберг (Kestemberg, 1978). Характерное для психической анорексии как для холодного психоза фетишистское объектное отношение проявляется в полном объеме в основных формах этого заболевания, например, как у Северины, чей случай мы излагали в другой публикации (Vermorel, Vermorel, 2001), а здесь рассмотрим фрагменты анализа, относящиеся к модальностям переноса. Как только мы идентифицируем эту форму переноса, содержащую особое объектное отношение, мы обнаружим анорексическое ядро, которое не было выражено в актуальной симптоматике пациента. Описанные ниже случаи демонстрируют, что это происходит в процессе классического анализа, а также аналитической терапии при других патологических констелляциях. СеверинаЭто была пациентка, пораженная тяжелой формой психической анорексии. Пищевые ограничения, являвшиеся настоящим голодным режимом, который она себе навязывала, и булимия-рвота, следовавшие друг за другом после единственного приема пищи вечером, были выражением интенсивной деструктивности, порождающей почти невыносимое трансферентно-контртрансферентное отношение. Ее поразительная худоба показывала, до какой степени болезнь затрагивала ее самосохранение, поскольку кахексия1 являлась не только выражением чрезвычайного подавления сексуальности, но также и выражением нападения на жизненно необходимую потребность в еде. Однако ее анорексично-булимическое поведение могло появиться как последняя попытка психического выживания перед лицом смертоносных психотических требований влечения с угрозой поглощения аутистическим ядром, присутствие которого можно было постулировать у этой пациентки. Как в оппозиции «все или ничего» психотической оральности (анорексия или булимия, обе без границ), мы попадаем в пространство парадокса: умирание от голода как последняя попытка психического выживания. Фетишистское объектное отношение входит в список парадоксальных переносов, которые используются в психозах или перверсиях. Эти парадоксальные переносы могут рассматриваться как защита от психотического процесса. Трансферентное отношение Северины было совершенно парадоксальным. Болезнь проявилась в подростковом возрасте в семейном климате, характеризовавшемся суровостью Сверх-Я с интенсивным подавлением сексуальности; но провоцируемая регрессия доходила до орального ядра, травмированного в самом раннем детстве. Действительно, в ходе психотерапии пациентка смогла обнаружить существование ранних пищевых расстройств, раскрывающих основную дисфункцию первичного отношения с матерью, с женщиной, которая появлялась в дальнейшем как недостаточно любящая, вменяющая своей дочери отвращение к сексуальности и подчиняющаяся своему грубому супругу. Эти пищевые расстройства прошли в то время незамеченными, но пациентка восстановила в памяти, используя рассказы семьи, события начального периода своей жизни. Ее мать, разрешившись родами, жила у своих родителей и тем самым оказалась перед лицом бурных семейных конфликтов, с чем была связана внезапная остановка лактации. Северина отвергала бутылочку с молоком, и у нее началась рвота; нарушение аппетита и рвота затем прекратились, чтобы вновь возникнуть к восемнадцати месяцам. Одна из функций психотерапии состоит как раз в том, чтобы аналитик смог стать свидетелем страданий, которые остались без ответа со стороны семейного окружения, что помогает ему осознать и определить эти ощущения. Итак, анорексическая структура вытекает из сгущения отвергания сексуальности ( Verwerfung) в подростковом возрасте и ранней травмированной оральнос-ти. Поэтому можно было понять попытку Северины подавить потребность в пище, доходящую до риска смерти, как последнюю битву против проявлений женственности. В этом заключается другой парадокс. Ранняя фрустрация, поразившая желание потреблять пищу, указывает на нарушенное отношение с первичным материнским объектом. Здесь мы оказываемся в режиме потребности, а не в режиме желания; фрустрация оставляет ненасыщенным поиск материнского объекта; этот поиск объекта проявится позже, на заднем плане, во взрослом возрасте. Трудность в лечении психической анорексии состоит в том, что этот поиск проявляется в переносе в парадоксальной форме — в форме отрицания присутствия аналитика. Для Северины я не был настоящим объектом, «другим», мое существование для нее было шатким и ограниченным. Достигла ли аутистическая основа анорексии Северины «идеи Я», которую Сеарль считает фундаментом психоза, т. е. инаковости (Searles, 1965)? Конечно, но, с другой стороны, это было активное отрицание моего присутствия, антиэдипово движение против любого влечения. Регрессия аффектов у Северины была впечатляющей. Можно было обнаружить обострение симптомов во время отсутствия близких людей и во время отпуска аналитика, но потребовалось много времени, чтобы она смогла это констатировать сама и чтобы на месте симптомов она смогла увидеть в переносе свой страх сепарации и связать его со своей детской историей. Ее мать, занятая в своем магазине обслуживанием клиентов, не ушла с работы, даже когда ее дочь нужно было доставить в больницу. А вечером приходилось очень долго ждать, чтобы мать наконец-то пришла приготовить еду, закончив свою работу. Осознание и проработка страха, связанного с ее прошлой историей, в транс-ферентной ситуации были основными моментами психотерапевтического процесса, приводящими к усиливающемуся осознанию аналитика как объекта, как настоящего другого, тогда как до сих пор он был только частичным объектом, отрабатывающим барщину по чужой воле. Это происходило одновременно с уменьшением всемогущества пациентки и господства, которое она пыталась осуществить. Бесплотное тело Северины вызывало у аналитика чувство ужаса, так как она напоминала ему заключенного, вышедшего из концлагеря. Но сама она, глядя на себя в зеркало, вовсе не воспринимала себя таким образом, поскольку, массивно отрицая реальность, видела себя гораздо более упитанной; «жир», который она усматривала в своих худосочных формах, напоминал ей крепость тела ее матери, которая была скорее тучной в ее детстве. На самом деле это было сгущение образа своего тела и образа тела своей матери в виде чудовищной химеры, представляющей собой нечто вроде архаического инцеста: одно тело на двоих, сказала бы Джойс Макдугалл (McDougall, 1989). Этот бредовый образ своего тела мог также напоминать повторяющиеся беременности матери и смертоносную ноту ее абортов, делавшихся дома и, конечно же, не проходивших незамеченными для Северины. Эта дисморфофобия, в понимании Эвелины Кестемберг, включала сексуальность с насильственной, если не сказать смертоносной, тональностью, входящей в состав безжизненного и фекализированного анорексического тела. Парадоксальный перенос и фетишистское объектное отношениеВ основе психической анорексии лежит первичная рана, вызванная недостаточностью материнского инвестирования; при провале галлюцинаторного удовлетворения желания перверсия является источником парадоксального наслаждения (Chasseguet, 1984). Здесь речь идет о режиме неопотребностей (Fain, 1971), пытающихся найти другой выход из провала аутоэротической конституции; самоуспокаивающее поведение (Szwec, 1988) является эрзацем недостаточного аутоэротизма и выражается в ано-рексических и булимических принуждениях, так же как и в оргазме Я, о чем говорили Э. и Ж. Кестемберг. За неимением сексуального оргазма, который предполагает наличие другого, оргазм Я — это вид экстаза нарциссического плана. Возбуждение, поддерживаемое безостановочной физической и психической активностью и доводящее порой до полного изнеможения, может производить эндорфины, которые играют роль, аналогичную роли эндорфинов, производимых в токсикоманических состояниях,— и мы попадаем в режим вредных привычек (аддикцйй). Попробуем теперь рассмотреть психическую анорексию как женскую форму фетишизма (Vermorel, 1992). Если мужчина-фетишист в целях достижения оргазма стремится организовать псевдоэдип с предметом, связанным с телом матери, где же тогда фетиш у страдающего анорексией? Это тело субъекта и пища, которые и занимают место фетиша. Мужчина-фетишист, исходя из своей сексуальной ориентации, стремится создавать вовне фетиш фаллического плана, изменяя функцию переходного объекта, например, такого, как ткань, или фетиш, связанный с материнским телом. У женщины, больной анорексией, в связи с женской ориентацией ее сексуальности фетиш находится внутри, и вследствие смешения тела матери с телом дочери тело последней и выполняет функцию фетиша. В отличие от настоящего переходного объекта, который служит для сепарации от матери, фетиш является переходным объектом, потерпевшим провал и отклоненным от своей цели; он умерщвлен, фекализирован, закрепляет не отсепарированность и служит защитой от психотического захвата; таким образом, фетишизированное тело страдающего анорексией человека является выражением холодного психоза, т. е. психоза без бреда. В переносе аналитик переживает проблемы пациентки, чувствуя себя уничтоженным, неспособным думать: речь идет о модальности процесса проективной идентификации, когда именно несимволизированный опыт проецируется на/в терапевта, который призван придать ему новый смысл; все это разыгрывается на уровне метакоммуникации, выражающейся с помощью аффектов. Для пациентки это парадоксальная попытка: выбрасывая вовне свой опасный характер, найти объект, которого всегда недоставало. В посланиях пациентки, напоминающих сообщения, обращенные ее матерью к Северине-ре-бенку, аналитик встречается не только с опытом беспомощности, но также и с ненавистью, о которой так хорошо говорил Винникотт применительно к психозам. Эта ненависть кажется очень близкой к ярости, которая, разумеется, отклонена от своей цели и направлена на деструктивность; но для аналитика важно увидеть там также и жизненный фундамент, лежащий в основе воли к жизни и служащий для сепарации от первичного объекта (Vermorel, Vermorel, 2000). Самоуспокаивающее поведение (и анорексическая зависимость, и булимия со рвотой) является одним из выражений фетишистского бреда. Но нельзя забывать также и о том, что здесь еще речь идет о парадоксальном поиске связи; субъект постоянно атакуется, и его присутствие отрицается. Нужно время, чтобы личность аналитика появилась в качестве настоящего объекта. Булимия выражает движение поглощение-пожирание-материнское тело, тогда как рвота представляет собой отторжение материнской груди, которая была поглощена без ограничений. Это судьба аналитика, так как от сеанса к сеансу остается мало или вовсе не остается следов запечатления того, что произошло на сеансе, того, что изменяется (медленно) благодаря постоянству личности аналитика, постоянству, присутствующему всегда, несмотря на повторяющиеся атаки. Латентное анорексическое ядро в ходе анализаКогда аналитик чувствителен к этой форме переноса, то он может ее отслеживать в ситуациях, где она минимально проявляется. Действительно, травматическое анорексическое ядро, к которому мы попытались подойти, отщеплено от остальной личности и является более или менее значимым и активным. В случае, описанном выше, оно захватывало в буквальном смысле всю сцену, но в других обстоятельствах оно может быть гораздо более скромным и давать возможность психике функционировать иначе, а при случае и невротическим образом. Обучающийся аналитик представляет случай на супервизию: речь идет о пациентке, которая уже проходила анализ; во время предварительных встреч анализ показался ему обоснованным в связи с наличием у пациентки элементов невротической организации. Когда анализ начался, аналитик оказался в ситуации, сбивающей его с толку, так как речь шла не о классическом переносе, а сам он был тогда дебютантом. Как и его подопечный, супервизор чувствовал, что он едва ухватывает нить в представляемом материале. Отметив ранее аналитические качества коллеги, он был удивлен этой ситуацией. Потребовалось время, чтобы аналитик понял, что он испытывал настоящий паралич мысли и неспособность к проработке; время, чтобы осознать, что это проистекало из-за трансферентного сообщения, посылаемого пациенткой, из-за режима фетишистского объектного отношения: последнее получило возможность проработки и обретения смысла через контртрансферентную работу. Только тогда пациентка вспомнила анорексический эпизод подросткового возраста, который, очевидно, прошел незаметно и закончился сам собой, но оставил травмированную психическую зону, притуплённую, но всегда присутствующую и активированную началом анализа. С этого момента ситуация изменилась и аналитическая работа началась — сперва переходным образом, чтобы впоследствии обрести устойчивые эдиповы элементы, позволившие перейти к кушетке, т. е. к лечению, происходящему в более классическом русле. ФлорансФлоранс чуть более сорока лет, это чрезвычайно элегантная и изысканная женщина. Ее второй брак кажется очень удачным, но она все еще находится под воздействием супружеских трудностей, пережитых в первом браке. Когда она об этом вспоминает на предварительной встрече, обнаруживается вся глубина ее депрессивного состояния, что, однако, не мешает ей в повседневной жизни, и особенно в профессиональной, быть предприимчивой, интересной, живой. У аналитика возникает контрастное впечатление, как если бы перед ней находились две женщины. Но позитивная сторона пациентки привела аналитика к решению проводить с ней анализ, хотя на первичном интервью у нее возникли сомнения: отсутствие сновидений, нежелание говорить о сексуальной жизни... Сразу же аналитик чувствует, что находится в особенной ситуации: Флоранс ее обездвиживает, сковывает. Сначала Флоранс сама определяет ритм работы: два сеанса в неделю для практических неизбежных проблем, но, по возможности, без дискуссий. И в первый период анализа пациентка главным образом рассказывает, а не ассоциирует: рассказывает о своих настоящих и прошлых страданиях, о непостоянстве интереса матери к ней, о «провалах» отца, о ее неудачном первом браке, о чувстве вины из-за того, что она не уделяла должного внимания детям. Постепенно устанавливается некоторая монотонность: аналитик мало что может сказать и еще меньше — интерпретировать; она слушает и проявляет эмпатию без того, чтобы что-то делать с этим материалом. Ощущение полной обездвиженности обостряется, когда пациентка объявляет, что собирается получать профессиональное образование: она должна изменить свое расписание, и, говорит она, иногда она будет приходить только один раз в неделю, тем не менее она будет платить за два сеанса. Не принимая этого изменения, аналитик понимает, какое большое значение пациентка придает анализу. При этом очевидна вся парадоксальность ее представления, приводящая аналитика в растерянность, поскольку в действительности пациентка сокращает время анализа. В следующем году, получив новый диплом, она переходит на новую должность, которая, конечно же, вынуждает ее — и аналитика тоже — изменить расписание, возвращаясь к двум сеансам. Аналитик не может мгновенно разрешить проблему расписания. К тому же то, что она вновь оказывается поставленной перед фактом, приводит аналитика в ярость, в чем она сразу не отдает себе отчета, но что сквозит в несколько измученном тоне ее голоса. Аналитик реагирует выражением усталости и боится, как бы анализ не увяз по причине контртрансферентных проявлений, которые на данный момент вызывали у нее чувство вины. В действительности за тем, что проявлялось как сдержанность или осторожность со стороны пациентки, стояло активное исследование себя, велся настоящий опрос старых друзей матери. Тогда она начинает связывать то, что ощущала как внезапную потерю интереса к ней матери, с тем фактом, что, находя очередного любовника, мать отправляла ее, хотя она была еще совсем маленькой, на ночь, на день или на более долгое время к всегда готовой услужить знакомой. «Это,— говорит она,— как если бы она меня сдавала в камеру хранения!» Таким образом, путем отреагирования пациентка вызвала у аналитика чувство, что сама аналитик была сдана в камеру хранения. В парадоксальном отношении отреагирования она посылала аналитику чувства, которые никогда не могли не только производиться матерью, но и просто выражаться и признаваться, устанавливая связь между матерью и ребенком, которые формировались как две разные и индивидуальные личности. Следующее происшествие становится определяющим: однажды аналитик звонит ей и говорит, что не сможет принять ее завтра. На следующем сеансе она объясняет, что она почувствовала: сначала она обрадовалась, что у нее будет время заняться дочерью, которой надо было помочь. Но потом она подумала, что это не было в привычках аналитика так поступать и что, наверное, она заболела, иначе быть и не могло. Она была этим очень взволнована: «Вы перевоплотились,— сказала она.— Впервые вы стали для меня человеком с чувствами и страданиями. Нет, не впервые: несколько недель назад я вам объясняла, что мне очень трудно выслушивать сообщения о проблемах моей дочери. Вы мне тогда сказали, что не всегда возможно найти нужное слово и соответствующую дистанцию. Вы это сказали так, что я подумала, что и у вас тоже возникают трудности с близкими. И это мне согрело сердце». Аналитик связала эту фразу с тем, что она говорила пациентке в ярости (в скрытой ярости), которая могла бы их привести к разрыву, но которая — отреагирование в ответ на отреагирование — заставила ее оказаться живой и отделенной от пациентки. И именно тогда пациентка и призналась, насколько она боялась, что аналитик скажет, что анализ с ней невозможен, и сдаст ее в камеру хранения. Но в течение первого периода анализа именно Флоранс сдала аналитика в камеру хранения. Думается, что там речь шла, как минимум, о том, что Эвелин Кестемберг назвала фетишистским отношением к объекту. Аналитик, оказываясь обездвиженным, вынужден не проявлять никаких чувств и даже сам не воспринимает их. Речь идет о настоящей фетишизации, при которой внешний объект не существует как таковой, однако он необходим, чтобы гарантировать нарциссическую целостность субъекта. Сама обездвиженность аналитика дает пациенту магическую власть, которая предоставляет ему подтверждение собственного существования. Но в то же время такая ситуация рискует привести к увязанию, пока повторение отреагирований остается непонятым и пока аналитик остается захваченным и беспомощным перед ними. Вывести из этой ситуации может только отреагирование аналитика в ответ на отреагирование пациента: тон вмешательства аналитика обнаруживает его ярость, хотя бы ярость в виде утомленности. И аналитик тогда осознает, что то, что он переживает, что его заставляют переживать,— это то, что вы можете почувствовать, когда вас сдают в камеру хранения,— чувства ребенка, превращенного в упаковку, в вещь: сначала ярость, а потом страдание. Это позволяет аналитику пережить свои чувства как настоящий перенос в анализе. Необходимо было, чтобы аналитик «перевоплотился», для того чтобы выйти из этого фетишистского отношения, успокаивающего, но заточающего. Аналитик не давал интерпретации. Но именно на уровне холдинга и могла установиться коммуникация между пациентом и аналитиком. Рэймон Кан (Cahn, 2002) в работе «Конец кушетке?» пишет, что самое главное заключается в том, «чтобы аналитик, идя по контртрансферентному пути, вызвал к жизни крик, который пациент сам не может издать». Объектное отношение и влечение в парадоксальных переносахПонятие объектного отношения было предложено Карлом Абрахамом (Abraham, 1916-1977) в его генетической теории либидо, так как на каждой стадии (оральной, анальной, фаллической и генитальной) развития влечения уже намечен способ отношения к объекту. Дальнейшее развитие психоанализа покажет, что сменяющие друг друга теории вращались между двумя полюсами — полюсом влечений и полюсом объектных отношений. Идеи Абрахама были развиты Мелани Кляйн, проходившей у него свой анализ; она вводит понятие внутреннего объекта, который получил полную разработку. На полпути между Фрейдом и Мелани Кляйн Уильям Рональд Фэрбэрн (Fairbairn, 1952) в ходе очень индивидуальных собственных рассуждений приходит к выводу, что понятие внутреннего объекта является интериоризацией отношения к внешнему объекту. Другое направление развития объектных отношений — психология Я — имело широкое распространение в Северной Америке. Одним из главных его представителей является Эдит Якобсон, ставшая образцом для Эвелин Кестемберг, которая неоднократно цитирует Якобсон и заимствует у нее понятие самости. Но вряд ли Э. Кестемберг была знакома с работами Фэрбэрна, которые никогда не цитировала. Морис Буве, один из теоретиков объектных отношений во Франции, написал два тома произведений (Bouvet, 1967) на эту тему. Он скоропостижно скончался, и его идеи мало предавалось гласности в связи с враждебным отношением французского психоанализа (Жак Лакан и мн. др.) к психологии Я; это противостояние часто принимало весьма преувеличенную идеологическую форму, затмевавшую понятие объектных отношений. В этом смысле Эвелин Кестемберг является исключением из правила, так как ее подход к психической анорексии представляет собой баланс между пространством влечений и объектных отношений. Действительно, понятие объектных отношений является значащим для основных ранних фрустраций, которые способствуют возникновению психозов. За неимением достаточного материнского инвестирования потребности ребенка не удовлетворяются, а влечения самосохранения испытывают это влияние, откуда и появляется проблематика психического выживания в психической анорексии. Конечно, поиск материнского объекта запрограммирован видом, как это показали этологи (привязанность), но он требует адекватного ответа окружающей среды (материнской), чтобы стабилизировать влечения самосохранения. Кроме того, за неимением достаточного нарциссического инвестирования нелюбимый ребенок тоже будет обречен на вечный поиск отсутствующего объекта в своих будущих отношениях. Это происходит не в режиме желания, а в режиме потребности; так как желание опирается на удовлетворение потребностей: влечения, связанные с целым объектом, могут устанавливаться в их сексуальном измерении, где господствуют любовь/ненависть, тогда как оппозиция привязанность/ярость лежит в основе самосохранения. Именно здесь располагается фундаментальный пункт аналитической стратегии: интерпретировать на эдиповом уровне проявление парадоксального переноса было бы источником страшных негативных терапевтических реакций. Дидье Анзье (Anzieu, 1996) присваивает Фэрбэрну заслугу первенства в описании природы парадоксальности. Фэрберн исходил из своей модели интериоризации плохого родительского объекта нелюбимым и даже подвергавшимся грубому обращению ребенком (так как он разрабатывал этот аспект своей теории, работая в учреждениях для малолетних преступников и с детьми, перенесшими плохое обращение). Не будучи в состоянии противостоять всемогущему родителю, от которого он зависит, Фэрбэрн настаивал на понятии детской зависимости: фрустрированный ребенок или ребенок, с которым плохо обращались, предпочитает интериоризировать плохой внешний объект в виде внутреннего объекта; внутреннее объектное отношение воспроизводит внешнее объектное отношение. Такой ценой он покупает внешнюю безопасность за счет внутренней небезопасности: это он плохой, а не его окружение, даже если с ним действительно плохо обходятся. Именно в этом заключается модель парадоксальной инверсии аффектов. Теория Фэрбэрна сильно проигрывает от того, что последовательно отвергает само понятие влечения, тогда как эти два полюса теории могут выиграть, только объединившись, что и было сделано Эвелиной Кестемберг в ее подходе к анорексии как к объектному фетишистскому отношению. Процесс проективной и интроективной идентификации является центральным в психотерапии со страдающими ано-рексией. Здесь как раз необходимо упомянуть о переходном анализе Дидье Анзье (Anzieu, 1985). В чем заключается функция аналитика, как не в интерпретации фантазмов, и в чем тогда его функция, когда он имеет дело с несимволизированными содержаниями? Он может оставаться аналитиком, располагаясь на другом уровне слушания, принимая знаки, которые выражают искажение субъективной топики пациента; знаки, идущие от тела, эти послания сенсорной, моторной и двигательной экспрессии, жаждут быть осознанными и обрести смысл в ме-такоммуникации — к альфа-функции Биона. Случай Флоранс, у которой моторика выражала несимволизированное переживание покинутости, показывает, что эта проблематика не сводится только к психозам и сегодня поддается психоаналитическому лечению. |
| Читайте: |
|---|
Психологическая помощь женщинам

Женщины – существа тонкой душевной организации, поэтому больше поддаются стрессам и тяжелей переживают жизненные неурядицы, чем мужчины. Поэтому, вполне закономерно, что время от времени они нуждаются в психологической помощи.
Почему важно правильно выбрать духи?
Выбирать духи это достаточно трудное занятие, поскольку удачно выбранный аромат способен расположить к вам людей, ну а неуместный и резкий аромат вызывает у окружающих обратную реакцию.
Найди свой ответ:
С чего начинается создание мобильных приложений? Прежде всего, чтобы подготовиться и грамотно разработать мобильное приложение необходимо иметь современный смартфон. Это... |
Аренда автовышки в КиевеСтроительство даже небольшой пристройки к дому может затянуться на длительное время. В свою очередь, в случае подготовки... |
Стань счастливой, чтобы быть любимой Для большинства женщин понятие «быть любимой» отождествляется с понятием «быть счастливой». |
Что нужно знать про форму для генерации лидов Во вселенной партнерских программ можно найти достаточно много непростых моментов, к которым следует быть хорошо подгото... |
|
More in: Отношения, Семейная жизнь, Мужчина для женщины, Новости сайта |
Новые статьи:
Психотерапия:
ЗОМБИ ЛЮБВИ Как отличить любовь, или здоровую, безопасную привязанность от нездоровой, патологической привязанности? |
Совершенствование психоаналитических приемов лечения Процесс совершенствования приемов лечения, созданных Фрейдом и описанных в его статьях по методологии, не назовешь пос... |
Фокусная терапия — особая форма психоаналитической крат В настоящее время фокусная терапия остается самой взыскательной и утонченной методикой лечения. |
Психоаналитическая методы лечения навязчивостей Психоаналитики считают , что тревожное расстройство формируется тогда , когда дети начинают бояться импульсов своего И... |
|
More in: Психоаналитическое толкование, Психические травмы, Психотические нарушения, Психоанализ |
Авторизация
Понять женщину:
Выйду за богатого… «Читаю ваш сайт, и становится безумно жалко наших женщин. |
Одинокий странник и все его дамы Однажды, рассеянно рассматривая фотографии артистов в фойе провинциального театра, я увидела знакомое лицо. |
Сумасшедшая любовь или горе без ума? «Я люблю человека, который давно женат, у него есть дети. Мне уже сорок лет, но я наделала столько глупостей, что теперь не знаю, как жить. |
Какие мужчины нам изменяют, или все мужики сво...? «Все новогодние каникулы в очередной раз смотрела «Бальзаковский возраст, или все мужики сво…». Слава богу, муж в это время уже благополучно спал, н... |
Шопинг нам простят, но ревность – вряд ли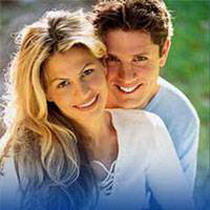 Что готовы простить нам мужчины и с чем мириться не собираются? |
Мой мужчина – жадина… «Недавно познакомилась с человеком, который меня вполне устраивает во многих отношениях. |





